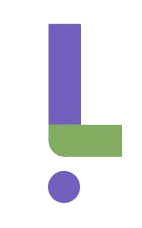Явление рунглиша — уникального симбиоза русского и английского языков — отражает динамику культурного взаимодействия между носителями этих языков на протяжении последних десятилетий. Возникший стихийно в среде эмигрантов и профессионалов, этот языковой феномен превратился в полноценную коммуникативную систему со своими грамматическими, лексическими и синтаксическими особенностями. История рунглиша началась с массовой эмиграции из СССР и постсоветских стран, когда переселенцы, осваивая английский, непроизвольно переносили в него родные языковые структуры. Брайтон-Бич в Нью-Йорке стал одним из первых центров формирования этого гибрида — там до сих пор можно услышать фразы вроде "Я пошел в магазин купить фуд" (вместо еды) или "Мой босс дал мне рейз" (вместо повышение зарплаты).
С развитием глобализации и цифровых технологий рунглиш перестал быть исключительно эмигрантским явлением. В IT-среде он стал профессиональным языком: программисты говорят "Нужно деплоить билд" (разворачивать сборку программы), "Закоммить изменения" (сохранить правки) или "Это фича, а не баг" (функция, а не ошибка). Корпоративный сленг тоже активно впитывает англицизмы: "Апрувьте документ" (одобрите), "Запланируйте митинг" (встречу), "Скиньте файл в облако". Даже в повседневной речи россиян, далеких от эмиграции, встречаются конструкции вроде "Я загуглил рецепт" или "Он фолловит меня в соцсетях".
Грамматика рунглиша — это причудливое сочетание русской морфологии и английской лексики. Глаголы присоединяют к себе русские суффиксы: "Он гуглит информацию", "Мы шопились весь день", «Я лайкнул его пост», «Мы френдим в VK». Существительные также начинают подчиняться законам русского языка, приобретая род и склоняясь по падежам: "У меня много дедлайнов" (вместо сроков), "Дай мне фидбек" (вместо обратной связи). Нередко встречаются и прилагательные: "Криповый" (жуткий), «Кринджовый» (постыдный).
Сегодня рунглиш существует в нескольких вариантах. "Классический" эмигрантский (Брайтон-Бич, "Она живет на сошиал секьюрити"), профессиональный (IT, "Деплой на прод"), молодежный ("Чиллим на диване") и даже "гламурный" ("Фэшн-лук", "Бьюти-рутина"). Лингвисты спорят: одни считают его временным явлением, другие — этапом развития языка в глобализованном мире. Как бы то ни было, рунглиш уже повлиял на русский, обогатив его десятками неологизмов.
Еда — одна из тех сфер, где рунглиш чувствует себя особенно комфортно. В ресторанах, кулинарных блогах и даже в бытовых разговорах русско-английский микс стал привычным явлением. Люди ходят на «фуд-корты», чтобы поесть, а вместо "перекуса" говорят "снэк".
Современные рестораны и кафе часто используют англицизмы, чтобы звучать модно или интернационально. Например:
"Давай закажем бургер и фраппучино" (вместо "котлету в булке" и "холодный кофе").
"Здесь есть веган-опции?" (вместо "постные блюда").
Даже традиционные русские блюда иногда подают с иностранными названиями:
"Борщ с крем-фреш" (вместо "со сметаной").
"Пельмени с чили-соусом" (вместо "острым соусом").
Официанты в таких местах могут спросить:
"Вам догги-бэг?" (от doggy bag — "упаковать с собой").
"Какой стейк-пойнт предпочитаете?" (степень прожарки, от steak point).
YouTube и Instagram переполнены роликами, где авторы щедро смешивают языки:
"Сначала миксуем муку и яйца" (от to mix).
"Добавляем чиз и бейкон" (сыр и бекон).
"Этот рецепт — изи (easy), справится даже новичок!"
"Готовим панкейки (pancakes) на завтрак."
Почему так происходит?
Глобализация — интернациональные термины проще запомнить.
Краткость — "смузи" звучит короче, чем "фруктовый коктейль".
Мода — англицизмы делают речь "современнее".
Источники:
1. Gorham, M. "Russian-English Language Contact in the Digital Age" (2014).
2. Zemskaya, E. "Corporate Russian-English Code-Switching" (2000).
3. Perelmutter, R. "Post-Soviet Immigrant English" (2010).
4. Andrews, D. "Brighton Beach English" (1999).
5. Thomason, S. "Language Contact" (2001).
6. Koptjevskaja-Tamm, M. "Globalization and Urban Vernaculars" (2016).
7. Berns, J. "Russian-American Dialectology" (2005).
8. Weinreich, U. "Languages in Contact" (1953).
9. Polinsky, M. "Lexical Borrowing in Immigrant Speech" (2018).
10. Canagarajah, S. "Translingual Practices in Globalized Workplaces" (2017).